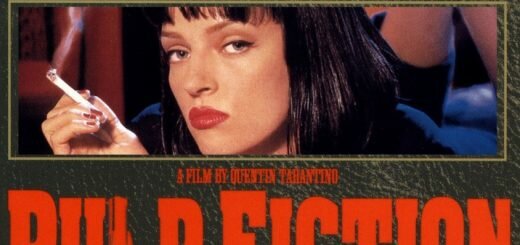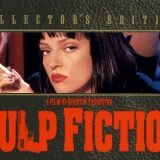С.М. Эйзенштейн Монтаж
Содержание
Р. Юренев. Эйзенштейн о монтаже 3
Монтаж аттракционов 19
За кадром 29
Четвертое измерение в кино 45
Монтаж 1938 63
Вертикальный монтаж 102
Вкладыш
С.М. Эйзенштейн на занятиях со студентами во ВГИКе.
Р. Юренев
ЭЙЗЕНШТЕЙН О МОНТАЖЕ
В этой небольшой книжке собраны основные высказывания С.М.Эйзенштейна о монтаже. Она рассчитана на студентов режиссерского факультета ВГИК, но будет и полезна для киноведов, операторов, сценаристов.
Взгляды великого режиссера и теоретика развивались, обогащались, вели к пониманию монтажа не только как важнейшего специфического выразительного средства киноискусства, но и как комплекса композиционных принципов построения кинофильма, «строения вещей», образующих идейную систему, стилистику, авторскую индивидуальность кинорежиссера.
Как педагог Эйзенштейн отводил монтажу центральное место. В его программах обучения кинорежиссеров, начиная с «Гранита кинонауки» (1928), кончая «Программой преподавания теории и практики кинорежиссуры» (1936), несмотря на невиданный по масштабности объем материалов, включающих философские, драматургические, изобразительные, музыкальные, актерские и иные проблемы, монтаж, во всех его ипостасях, во всех тонкостях понимания этого термина, служит как бы стержнем, скрепляющим все сложное многообразие творческого процесса создания фильма.
Монтаж — это первое слово в первой теоретической статье, опубликованной Эйзенштейном. Правда, речь шла о монтаже аттракционов в спектакле. Однако молодой театральный режиссер, еще не вкусивший кинематографа, уже понимал, что «школой монтажера является кино».
Часть осознания истины, что монтаж является важнейшим специфическим выразительным средством киноискусства, принадлежит Л.Кулешову. Ричотто Канудо и Луи Деллюк, писавшие о кино до Кулешова, только лишь подходили к пониманию монтажа, рассуждая о движении, о ритме. Да и практика киноискусства 1910-х годов — до
Р. Юренев
Гриффита — еще не давала материала для творческого осмысления строения фильма. Открытие Кулешова тем и замечательно, что он смотрел не назад, не на опыт русского дореволюционного кино, а вперед. В статьях 1917-1919 годов и в исследовании «Знамя кинематографии» (1920) Кулешов теоретически обосновал значение монтажа. Немного позднее, объединяя разрозненные хроникальные съемки фронтовых кинооператоров, пришел к пониманию роли и особенностей монтажа Дзига Вертов. В своих темпераментных манифестах 1922-1925 годов он декларирует агитационные возможности монтажных построений. Л.Кулешов, экспериментируя с кусками старой пленки, открывает эффект, состоящий в том, что монтажное сочетание кадров может придавать им различный смысл, изменять их содержание. А затем делает ошеломляющий вывод, что монтажом можно создавать на экране события и даже персонажей, не существующих в действительности («эффект Кулешова»).
Освоением безграничных, чудодейственных возможностей монтажа характерны все новаторские фильмы 20-х годов. Недаром историки кино называют этот период «монтажным». Опыт постановки четырех классических фильмов — «Стачки», «Броненосца «Потемкин», «Октября» и «Старого и нового» — позволил Эйзенштейну категорически и безапелляционно заявить: «Кинематограф — это прежде всего монтаж». К подобным же выводам приходили все авторы, писавшие о кино: В.Пудовкин, С.Васильев, С.Тимошенко, Б.Балаш и многие другие.
За последние десятилетия о монтаже лишь бегло пишут в общих теоретических книгах по эстетике киноискусства. Специальных исследований, кроме интересных, основанных на практике работ Л.Б.Фелонова, нет. Более того — в монографиях о творчестве кинорежиссеров, в рецензиях на фильмы даже слово «монтаж» употребляется крайне редко. И, что печальнее всего, в творческой практике большинства кинорежиссеров возможности монтажа почти не используются, за исключением Андрея Тарковского, Глеба Панфилова, Отара Иоселиани, Александра Медведки-на, Вадима Абдрашитова, Тенгиза Абуладзе, Эльдара Шенгелая, Никиты Михалкова и немногих других. Некоторые постановщики передоверяют склейку кадров монтажерам, а те, как правило, не посягают на творческие решения. Длина монтажных кусков определяется длиною реплик, игрой актеров, звучанием музыки, а зачастую и нетворческими соображениями, а о ритме, темпе, эффектах асинхронности, словом, о проблемах монтажной образности, забывают. Отсюда вялость, затянутость, аморфность большинства современных художественных и документальных фильмов. Особенно эти недостатки характерны для телевизионных фильмов, авторы которых, например, о ритме и темпе даже не помышляют. Богатейшая телевизионная техника, открывающая для монтажа новые заманчивые возможности, используется лишь в музыкальных ревю, эстрадных номе-
4
Эйзенштейн о монтаже
рах, рекламных клипах, причем на уровне технических средств, используется ограниченно, однобоко: многократные экспозиции, перевертывание и вытеснение кадров…
Мне могут возразить: со времен «монтажного» кино прошло много лет, экран обогатился словом, цветом, стереоскопией, электроникой; язык кино должен был измениться.
Но не обеднеть!
Об этом думал, заботился, волновался Эйзенштейн. Слово, специально написанную музыку, цвет, даже телевизионные возможности он рассматривал на заре их рождения, до накопления практического опыта. И новые средства никогда не противопоставлял старым, уже разработанным. Новое рассматривалось им как обогащение существующего. Монтаж как основное, важнейшее выразительное средство кино обнаруживал в его теории и практике все новые возможности.
В этой книге сделана попытка выделить из обширных работ и проследить развитие взглядов Эйзенштейна на монтаж. Причем и на монтаж звуковых и цветовых фильмов. Дерзания, открытия, обобщения великого мастера в области обертонного звукового («вертикального») и цветового («хронофонного») монтажа представляются мне не только современными, но во многом и злободневными, созвучными нашей сегодняшней борьбе против серости, стандартности фильмов, за идейное и художественное развитие киноискусства.
К началу звукового кино Эйзенштейн успел обобщить монтажный опыт немого периода, наметить основные стадии развития монтажного (композиционного) мышления и предсказать дальнейшее развитие этого мышления в связи с освоением звука* . Здесь он ошибся в определении процесса усложнения монтажа в звуковом кино. Первые звуковые фильмы, как американские, так и советские, обнаружили тенденцию не к сложным обертонным и контрапунктическим построениям, а к упрощению монтажа, к примитивной синхронности, которую Эйзенштейн гневно называл «театральщиной», призывая бороться с ней и стремиться к звуко-зрительному синтезу. Он продолжил свои изыскания в новом аспекте, занявшись развитием рационального зерна, заключенного в интеллектуальной теории — внутренним монологом (статьи «Одолжайтесь!», 1932, «Родился Пантагрюэль», 1933, доклад на Всесоюзном творческом совещании 1935 года) и разработкой программы преподавания режиссуры. К проблемам монтажа он обратился в статье «Э! О чистоте киноязыка» 1934 года, явившейся своеобразным откликом на борьбу А.М.Горького за чис-
________________
* Подробнее см. первую часть моей монографии «Сергей Эйзенштейн. Замыслы. Фильмы. Метод.» (М., 1984).
5
Р. Юренев
тоту литературного языка. Забвение чистоты языка кинематографического Эйзенштейн усмотрел все в той же театральности многих наших звуковых фильмов, в пренебрежении монтажом. Задорно полемизируя с теми, кто внимание к монтажу считал формализмом, Эйзенштейн дает несколько ясных и простых оценок монтажа — «сильнейшее композиционное средство для воплощения сюжета», «синтаксис правильного построения каждого частного эпизода картины» — и рассматривает монтаж во взаимосвязи с композицией кадра и композицией фильма в целом. Глубокий анализ сцены яликов из «Броненосца «Потемкин» подтверждает эту взаимную обусловленность.
Вскоре Эйзенштейн начал писать обширное исследование о монтаже. Основой этого исследования стали лекции, прочитанные им во ВГИКе на третьем курсе режиссерского факультета в 1933-1934 учебном году и застенографированные с целью превращения их в учебник. Съемка «Александра Невского» (1937-1938) сначала прервала исследование о монтаже, а потом, дав Эйзенштейну достаточно практического опыта, повлекла его к другим работам — «Монтаж 1938», «Вертикальный монтаж», «О строении вещей». Поэтому труд «Монтаж» остался незаконченным. По-видимому, Эйзенштейн не собирался его завершать, потому что наиболее интересные страницы использовал в других работах («Монтаж 1938», «Вертикальный монтаж», «Диккенс, Гриффит и мы»), а также в незаконченных исследованиях («История крупного плана», «Неравнодушная природа»). Тем не менее его содержание чрезвычайно ценно и является этапом в развитии теоретических взглядов и творческого метода Эйзенштейна.
Животрепещущий интерес представляют размышления Эйзенштейна о монтаже в литературе, театре и изобразительных искусствах. Парадоксальность понимания Эйзенштейном монтажа как специфического средства киноискусства, присущего именно и только ему, и одновременно поиски «монтажа» в других искусствах объясняются тем, что монтаж Эйзенштейн понимал гораздо шире — как принцип композиции, как «строение вещей», как творческий процесс создания кинематографического образа. Сам он так объясняет этот парадокс: «Строго говоря, эта книга, конечно, не о монтаже. Книга эта в основном — в меру отпущенных автору сил и способностей — старается раскрыть то, как в частной области произведения -в его композиции и методах ее (разрядка моя — Р.Ю.) надлежит раскрывать единично-изобразительное одновременно с обобщенно-образным и как им обоим надлежит быть в неразрывном единстве и проникать друг в друга.
Книга показывает это на одном небольшом участке специальной проблемы кино, внутри того многообразия проблем, которые входят в создание кинофильма — на проблеме монтажа и неразрывно с ней связанной
6
Эйзенштейн о монтаже
проблеме кадра. Но так как с подобных позиций о монтаже вообще не писалось или писалось не с такой кропотливостью, то эта книга — уже совсем строго говоря — все-таки книга о монтаже».
На своих занятиях со студентами Эйзенштейн любил раскрывать принципы композиции путем «раскадровки» и монтажного анализа сложных произведений живописи, таких как «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Изгнание торгующих из храма» и «Буря над Толедо» Эль Греко, «Боярыня Морозова» и «Утро стрелецкой казни» Сурикова, «Не ждали» и «Запорожцы» Репина, «Оборона Петрограда» Дейнеки и других. Разделяя картину на десятки «кадров» различной крупности и располагая эти «кадры» в определенном смысловом, драматургическом порядке, студенты как бы оживляли картины, превращали зафиксированный в статике момент действия в процесс, развивающийся во времени и пространстве. Эти занятия, развивая творческую фантазию будущих режиссеров, одновременно учили их скупости, сдержанности, экономии изобразительных решений, умению эксплуатировать каждый штрих, каждую деталь для выражения основной мысли. Лучшие из студенческих работ (В.Кадочникова, П.Павленко, К.Пипинашвили и других) Эйзенштейн обрабатывал сам, предупреждал, что хочет использовать их в своих теоретических работах. Частично он использовал их в «Неравнодушной природе» (главки об Эль Греко) и в «Монтаже».
Особый интерес представляет сделанный им самим анализ композиции портрета М.П.Ермоловой кисти В.А.Серова. Он открыл, что необычайная мощь внутреннего подъема, вдохновенность образа великой русской актрисы достигнута… монтажным способом, т.е. объединением четырех различных ракурсов, точек зрения на фигуру Ермоловой, как бы разделяющих портрет на четыре кадра: общий план в рост, фигуру по колени, фигуру по пояс, крупный план головы, причем это деление подчеркнуто прямыми горизонтальными линиями рамы портрета, рамы зеркала, стыками между полом и стеной, стеной и потолком, а впечатление движения, жизни и монументальности достигается постепенным перемещением точки зрения от «сверху» к «в лоб», к «отчасти снизу», к «снизу», по мере укрупнения. Этот оригинальнейший анализ композиции портрета, содержащего одну лишь неподвижно стоящую фигуру, удивительно емок по содержанию. Он показывает значение композиции, ракурса, монтажных переходов как средств, могущих расшифровать сущность человеческого характера, идейное содержание человеческого образа. Не менее интересен «кинематографический» анализ композиции эстампа И.Добужинского «Октябрьская идиллия» и суриковского «Меньшикова в Березове».
В текст «Монтажа» он вставляет небольшие, сделанные начерно тезисы исследования о монтаже в архитектуре. Отталкиваясь от известной метафоры Виктора Гюго, назвавшего Собор Парижской Богоматери
7 Р. Юренев
екая, Вронский, другие зрители), сложные сочетания крупных статуарных планов зрителей с общими динамическими кадрами участников скачки, -все это увидено и разработано Эйзенштейном с поразительным чувством кинематографа и безукоризненной верностью замыслу Толстого.
Кинематографическое осмысление текстов Пушкина занимало Эйзенштейна особенно сильно, продолжительно и в различных опосредованиях. Были здесь и замыслы сценария о любви поэта к Карамзиной, были цветовые разработки сцен из «Бориса Годунова», был замысел теоретического исследования «Пушкин и кино». Ко второй половине 30-х годов относится несколько заметок, прямо или косвенно связанных с работой над «Монтажом». Некоторые из них остались в тексте исследования, другие приобрели форму отдельных этюдов, набросков, третьи были перенесены в другие труды.
В 1939 году Эйзенштейн написал небольшую статью «Пушкин и кино», которая должна была послужить предисловием к специальному исследованию. В ней он коснулся сложности взаимоотношений кино с другими искусствами, «предками не прямыми, а косвенными». Наиболее кинематографичным из литераторов он считал Пушкина. «Величие Пушкина. Не для кино. Но как кинематографично!».
Анализ боя с печенегами из «Руслана и Людмилы» начинает раздел «Монтажа», озаглавленный «Пушкин — монтажер». В нем много наблюдательности и остроумия. Есть и натяжки. Почему, например, первую строку отрывка «Сошлись — и заварился бой» он счел «типичным титром», а не типичным общим планом, с каких обычно начинаются батальные сцены в кино, в том числе и Ледовое побоище из «Александра Невского»? Подобных возражений можно сделать немало. Побывавшему на лекциях Эйзенштейна ясно, что эти возражения он блистательно и злоехидно разбил бы и опроверг. Но не в этом суть. Анализ композиции батального эпизода, распределения бьющихся по группам, монтажное столкновение этих групп и звукозрительные обертонные сочетания разработанны и неожиданно, и убедительно, зримо.
Еще убедительнее анализ Полтавского боя, разделенный на две части, причем вторая озаглавлена «Шары чугунные» и, возможно, предназначалась для отдельной публикации. Здесь, опираясь на четверостишие Пушкина, описывающее, как между сражающимися прыгают, разят, роют, шипят «шары чугунные», то есть пушечные ядра, Эйзенштейн развернул целую монтажную сюиту, полную бурного движения, драматизма, фантазии.
Когда же шары чугунные, «отыграв все пластические возможности», заканчивают шипением — раздается «звучный глас Петра», и начинается со звука — из шатра вслед за толпой любимцев, выходит Петр — высший, кульминационный момент сюиты. Снабженная рисунками и схемами эта
10
Эйзенштейн о монтаже сюита является шедевром монтажного мышления и должна изучаться как блестящий пример кинематографической режиссуры.
В заключительном разделе книги — «Монтаж тонфильма» — дается классификация видов монтажа «по линии семантического ряда» и «по линии кинетического ряда», перенесения с изменениями из «Программы преподавания теории и практики режиссуры» (1936).
Семантический ряд:
«а) монтаж, параллельный развивающемуся ходу событий (примитивно информационный монтаж);
б) монтаж, параллельный ходу нескольких действий («параллельный» монтаж);
в) монтаж, параллельный ощущению и значению (образный монтаж);
г) монтаж, параллельный представлениям (монтаж, конструирующий понятие)…»
Кинетический ряд:
«а) метрический;
б) ритмический;
в) тональный (мелодический);
г) обертонный;
д) интеллектуальный, как новое качество по линии развития обертонного в сторону смысловых обертонов»* .
Эйзенштейн смело выстроил систему приемов монтажа — от наиболее простого, повествовательного к самым сложным, обусловленным тонкостями художественной формы и идейного содержания. Применение всех этих приемов Эйзенштейн считал возможным в рамках одного фильма, в зависимости от содержания сцен, от намерений режиссера.
Его мысль стремится, рвется вперед. Рамки и без того разбухшего исследования становятся тесны. Вставки, сноски, вкладки несут все новые и новые темы, объекты исследования. Все настойчивее привлекает его внимание синтез. Как бы задавая себе уроки на будущее, он конспективно набрасывает и подчеркивает, что проблема разрешения вопроса звукозрительного монтажа есть проблема цвета в кино. Потом решает пояснить этот парадокс и исписывает несколько страниц о соизмеримости звука и цвета (что позднее будет переработано для «Вертикального монтажа»). Мысль формулируется более четко: «Другими словами — до конца решить проблему звукозрительной подлинной синхронности — а следовательно, и проблему монтажа тонфильма — способно только цветное кино».
______________
* Плодотворнее развитие этих положений Эйзенштейна дал С.И.Юткевич в своей книге «Человек на экране» (Госкиноиздат, 1947, с.101-126). Концепция Юткевича проще, но и яснее, практически целесообразнее.
11 Р. Юренев
И вдруг приписывает в скобках: «…(и стереоскопическое, как подтема внутри проблемы пластики будущего кино»). Он идет к осознанию киносинтеза.
Его мысли все чаще обращаются к синтезу, к удивительной и увлекательной тайне сочетания в едином и целостном произведении искусства различных средств, приемов, возможностей воздействия на человека.
Весной 1938 года он принимается за небольшого по объему работу «Монтаж 1938», в которой старается подытожить то важное, существенное, что откристаллизовалось в ходе многолетних размышлений . Статья появляется в журнале «Искусство кино» (1939, №1), затем, не дожидаясь собственных книг, Эйзенштейн помещает ее в монографии Л.В.Кулешова «Основы кинорежиссуры» (1941).
Статья начинается изящной филиппикой против крайностей в понимании роли киномонтажа, когда он почитался сначала «всем», потом «ничем». Затем Эйзенштейн формулирует основную задачу монтажа -«…задачу, неотрывную от познавательной роли, которую ставит себе всякое произведение искусства, — задачу связно последовательного изложения темы, сюжета, действия, поступков, движения внутри киноэпизода и внутри кинодрамы в целом».
Так, закономерно следуя всем своим предыдущим писаниям о монтаже, Эйзенштейн возводит это понятие до построения, композиции, структуры кинопроизведения, обусловленной не только логической связью, но и связью чувственной, эмоциональной.
Установив это широкое понимание монтажа как организации структуры произведения, выходящее «далеко за пределы области склейки кусков пленки между собой», Эйзенштейн начинает с основных принципов сочетания (он не говорит «столкновения», предпочитая более спокойные термины «соединение», «сопоставление» кадров. Он отмечает открытие «леваков», имея в виду Кулешова и Вертова): «…два каких-либо куска, поставленные рядом, неминуемо соединяются в новое представление, возникающее из этого сопоставления как новое качество», и добавляет к этому свою старую формулу: «сопоставление двух монтажных кусков больше похоже не на сумму их, а на произведение», так как возникает качественно новое содержание. Это новое содержание, рожденное содержанием кадров и самим процессом их сопоставления, и привлекает внимание исследователя.
«Сопоставление… частных деталей в определенном строе монтажа вызывает к жизни, заставляет возникнуть в восприятии то общее, что породило каждое отдельное и связывает их между собою в целое, а именно тот обобщенный образ, в котором автор, а за ним и зритель переживает данную тему». Этот вывод особенно интересен тем, что творческий процесс создания произведения искусства рассматривается в единстве с
12 Эйзенштейн о монтаже
процессом восприятия этого произведения зрителем. Это единство создания и восприятия, единство художника и зрителя характерно для всей эстетики Эйзенштейна, начиная с «Монтажа аттракционов» и кончая полуироническими мечтами о стереоскопическом телевидении будущего. Анализируемая статья содержит несколько кратких и отчетливых формул этой эстетики: «Произведение искусства, понимаемое динамически, и есть процесс становления образов в чувствах и разуме зрителя». Желаемый образ, говорит Эйзенштейн, не дается, а возникает, рождается. Образ, задуманный автором, режиссером, актером, закрепленный ими в отдельные изобразительные элементы, вновь и окончательно становится в восприятии зрителя.
В «Монтаже 1938» Эйзенштейну удалось многое из того, что не удавалось в неоконченном «Монтаже» 1937 года. Здесь значительно лучше подобраны примеры. В предыдущей работе они загромождали изложение, отвлекали от основной мысли. Здесь они лапидарнее, целенаправленней. Великолепен анализ сцены из «Милого друга», где Жорж Дюруа ждет в карете свою возлюбленную, а множество городских часов с разных расстояний неумолимо отзванивают уходящее время. Оригинальные примеры из «Горе от ума», из стихов Маяковского и даже Бальмонта. Наконец, Эйзенштейн не пожалел заготовленных для «Пушкина-монтажера» анализов монтажных построений в «Полтаве». Прерванное в «Шарах чугунных» появление Петра, окруженного толпой любимцев, здесь дано с великолепной наглядностью, совсем как на экране.
Но главное достоинство статьи — даже не в качестве примеров, а в формулировании мысли, оправдывающей и широкое понимание Эйзенштейном монтажа, и его метод поисков монтажности в литературе и в других искусствах:
«Вывод тот, что нет противоречия между методом, которым пишет поэт, методом, которым действует воплощающий его актер внутри себя, методом, которым тот же актер свершает поступки внутри кадра, и тем методом, которым его действия, его поступки, как и действия его окружения и среды (и вообще весь материал кинокартины) сверкают, искрятся и переливаются в руках режиссера через средства монтажного изложения и построения фильма в целом. Ибо в равной мере в основе всех их лежат те же живительные человеческие черты и предпосылки, которые присущи каждому человеку, равно как и каждому человеческому и жизненному искусству».
Уходит 1938, наступает 1939 — год триумфа «Александра Невского». Страдания от незавершенности фильмов «Да здравствует Мексика!» и «Бежин луг» (что тормозило и теоретическую работу, так как практики создания звукозрительного синтеза не хватало) уходит в прошлое.
13 Р. Юренев
«Александр Невский» завершен и дает огромный материал для теоретических выводов.
Музыка Прокофьева сочетается со световой живописью Тиссэ, игрой Черкасова, Охлопкова, Абрикосова и других превосходных актеров. Все это «сверкает, искрится и переливается в руках режиссера через средства монтажного изложения…» Все это наводит на мысль о режиссерской партитуре, позволяющей дирижировать воздействиями на зрителя. Возникает новый термин.
В июле-августе 1940 года Эйзенштейн, работая запоем, создает большую статью «Вертикальный монтаж». Возвращается замысел большой книги о монтаже. «Монтаж» 1937 года — это первый, черновой набросок и источник материалов. «Монтаж 1938», переименованный в «Горизонтальный монтаж», послужит первой частью. За «Вертикальным» последует «Хромофонный монтаж», где цвет «до конца решит проблему звукозрительной подлинной синхронности».
«Вертикальный монтаж» появляется в девятом и двенадцатом номерах журнала «Искусство кино» 1940 года и в номере первом за 1941 год. По сравнению с четкой отработанностью и насыщенностью «Монтажа 1938» новая работа разочаровывает своей растянутостью, разбросанностью, перегруженностью примерами, цитатами, именами. Но мощное течение, развитие мысли о монтаже ощущается и в ней.
Эйзенштейн разъясняет термин «Вертикальный монтаж», проводя аналогии с многоголосьем оркестровой партитуры и находя «стыки по вертикали» в своих фильмах «Стачка» (гул стачечников под гармошку), «Старое и Новое» («Крестный ход») и «Александр Невский » (нарастающий скок рыцарей). Он еще раз подчеркивает, что окончательную внутреннюю синхронность «куска» (эпизода, сцены) создает образ, смысл: «… эта формула о смысле куска объединяет и самую лапидарную сборку кусков — так называемую «тематическую подборку» по логике сюжета — и наивысшую форму, когда это соединение является способом раскрытия смысла, когда сквозь объединения кусков действительно проступает образ темы, полный идейного содержания вещи».
Сделав этот существенный вывод, Эйзенштейн надолго отвлекается от смыслового, идейного обоснования монтажа, нагромождая примеры соответствия изображения и звука. Примеры он умел выискивать самые неожиданные, ошеломляющие. Он вытащил из забвения немецкого философа конца XVIII века Эккартсгаузена, сконструировавшего музыкальную «машинку для зрения» и находившего для слов соответствия в музыке и цвете: «бесприютная сиротиночка — тоны флейты, заунывные — цвета оливковый, перемешанный с розовым и белым», и т.д. и т.п. Затем он цитирует Артюра Рембо: «А — черный; белый — Е; И — красный; У — зеленый; О — синий; тайну их скажу я в свой черед». И сталкивает его с другим француз-
14 Эйзенштейн о монтаже
ским поэтом — Рене Гилем, окрашивающим гласные совсем в другие цвета (А — вермильон, Е — от розового до золотого, И — лазурный, У — черный, О -красный). Затем перепроверяет их немецким романтиком А. В. Шлегелем (А — красный, И — небесно-голубой, У — ультрамариновый, О — пурпурный) и еще двумя романтиками — Максом Дейтчбейном и Лафкадило Херном…
Для меня остается загадкой, как это Эйзенштейн, с его всепобеждающей иронией, не усмехнулся над этой премудрой разноголосицей! Правда, в конце концов он приводит ироническое четверостишие Франсуа Коппе: «Тщетно весельчак Рембо в форме требует сонетной, чтобы буквы И, Е, О флаг составили трехцветный», но тут же с академической серьезностью заявляет, что в вопросе об «алфавите цветов» еще следует разобраться и, словно в омут, с головой уходит в исследование эмоционального содержания цвета на примере желтого.
Вторую часть «Вертикального монтажа» обычно называют «желтой рапсодией».
Вряд ли в эстетической литературе существует статья с большим количеством цитат и ссылок. И с большим разнообразием источников. И, я осмелюсь сказать это, с более скромным выводом, следующим из этого роскошества эрудиции: «Это значит, что не мы подчиняемся каким-то «имманентным законам» абсолютных «значений» и соотношений цветов и звуков и абсолютных соответствий между ними и определенными эмоциями, но это означает, что мы сами предписываем цветам и звукам служить тем назначениям и эмоциям, которым мы находим нужным».
Этому правилу — предписывать цвету и звуку необходимые для создания образа назначения и эмоции — Эйзенштейн следовал во всех своих практических и теоретических работах. С уверенностью можно сказать, что этому правилу следовало и подавляющее большинство художников, если не все. Так зачем же нужно было рыться в стольких книгах? Может быть, он предвидел сегодняшний наш неинтерес к теории?
Эйзенштейн любил все делать фундаментально. Он готовился встретить пришествие цвета в кино во всеоружии, так же, как встретил пришествие звука. Собранный им пестрый, оригинальный, малоизвестный материал показался ему столь забавным, что он удостоил его опубликования. Может быть — для того, чтобы потревожить умы, заставить кинематографистов пошевелить мозгами перед встречей с цветом?
Третью часть «Вертикального монтажа» Эйзенштейн начал с повторения основного вывода второй: наличие «абсолютных эквивалентов звука и цвета — если оно в природе существует — для произведения искусства никакой решающей роли не играет, хотя иногда и «вспомогательно» полезно.
Бросается в глаза, что решительная форма вывода здесь разбавлена оговоркой: «если оно в природе существует». Значит, Эйзенштейн верил в непознанные еще наукой соответствия звука и цвета, и искал их у всех
15 Р. Юренев
многочисленных авторов, начиная с Плутарха, кончая Кандинским? И, не найдя достаточно научных обосновании, успокоился на том, что для художественного творчества это значения не имеет?
«Решающую роль здесь играет образный строй произведения, который не столько пользует существующие или несуществующие взаимные соответствия, сколько сам образно устанавливает для данного произведения те соответствия, которые предписывают образному строю идея и тема данного произведения».
Вывод совершенно справедливый! Но, может быть, вскоре оптика и акустика в содружестве с орфоэпией откроют числовые соответствия между колебаниями, рождающими звуки и цвета? Тогда Эйзенштейн вновь окажется пророком, нащупывающим открытия будущего, как оказался им для семиотики и кибернетики?
Пока же возвратимся вместе с Эйзенштейном к вопросам монтажа. Великолепный в своей практической ясности и точности анализ полифонической структуры «Ледового побоища», снабженный рисунками, схемами, графиками, нотами, дополненный краткими анализами шестой строфы из «Домика в Коломне» и парадоксальными ссылками на содержание кантат Баха, сопутствует глубокому и простому практическому совету:
«нужно уметь ухватить движение данного куска музыки и нужно взять след этого движения, то есть линию или форму его, за основу той пластической композиции, которая должна соответствовать данной музыке». В зависимости от характера эпизода этот процесс может происходить в обратном порядке: композитор «ухватывает» монтажное и внутрикадровое движение и берет его за основу музыкального построения. Оба эти способа использованы Эйзенштейном в работе с Прокофьевым. В статье «ПРКФВ» Эйзенштейн позднее описал, как Прокофьев ухватывал его монтажные фразы и как он, Эйзенштейн, в других случаях монтировал под уже написанную Прокофьевым музыку.
Завершается «Вертикальный монтаж» ответом на вопрос, преследовавший Эйзенштейна на протяжение всего творческого пути: «Остается ответить лишь еще на один вопрос, который с неизбежностью ставится всяким слушателем или читателем, когда перед ним развертываешь картину закономерностей композиционных построений: «А вы заранее это знали? А вы заранее это имели в виду? А вы заранее все это так рассчитали?». И Эйзенштейн дает ясный, исчерпывающий ответ: «выстраиваешь мысль не умозаключениями, а выкладываешь кадрами и композиционными ходами»; «художник мыслит непосредственно игрой своих средств и материалов»; «когда действуешь — не объясняешься». Следовательно, его творческий процесс, как и у любого другого художника, носил эмоциональный, интуитивный, порой и подсознательный характер. Но он отметил значение и логического мышления:
16 Эйзенштейн о монтаже
«Конечно, и в этой «непосредственности» необходимые закономерности, обоснования и мотивировки такого именно, а не иного размышления проносятся в сознании (иногда даже срываются с губ), но сознание не задерживается на «досказывание этих мотивов, оно торопится к тому, чтобы завершить само построение».
Это очень важное замечание: мысль художника не задерживается на логических, научных обоснованиях своих решений, но эти обоснования должны быть, они служат как бы фундаментом эмоционального творческого акта. Интуиция является формой мышления и подготавливается, воспитывается мыслительными процессами. Это Эйзенштейн неоднократно мог проверить на своих учениках, которых до отказа насыщал логическими рассуждениями, научными анализами, формулами осмысленного опыта, чтобы потом требовать от них быстрых, мгновенных и уверенных творческих решений.
И вот именно для того, чтобы все художники, все его коллеги в новом, сложном, неразработанном еще искусстве кино могли достигать творческой свободы и дерзости, основанной на знаниях, на осмысленном опыте, Эйзенштейн и углубляется в научный анализ и обоснование творческих решений. «Работа же по расшифровке этих «обоснований» остается на долю удовольствия постанализов, которые осуществляются иногда через много лет спустя после «лихорадки» творческого «акта».
Обратите внимание: удовольствие постанализов! Да, он любил эти постанализы, любил находить логическое обоснование своих творческих решений, любил копаться в механике, в психологии, в закономерностях прошлого. Зачем? Для того, чтобы делиться всем осмысленным, открытым, выясненным с другими. Он и это сознавал. В автобиографических заметках незадолго до смерти он писал:
«Копаться. Копаться. Копаться.
Самому влезать, врываться и вкапываться в каждую щель проблемы, все глубже стараясь в нее вникнуть, все больше приблизиться к сердцевине.
Помощи ждать неоткуда.
Но найденное не таить: тащить на свет божий — в лекции, в печать, в статьи, в книги».
Эта страсть с годами росла. И чем меньше сил оставалось у больного, умирающего художника, тем упорнее «копался», тем настойчивее «обучал», тем безжалостнее тратил себя и всех, для народа, для искусства.
И эта страсть Эйзенштейна к теоретическому осмыслению своего творческого опыта — тоже поучительна для нас сегодня. Злободневна, если учесть поразительное равнодушие наших современных режиссеров к теории, к осмыслению своего опыта.
17 Р. Юренев
Для студентов ВГИК, да и для всех молодых людей, изучающих искусство и готовящихся к творческой деятельности, эта книжка даст немало мудрых практических советов и, главное, натолкнет их на осмысление творческого процесса, всегда кажущегося спонтанным, подчас даже непредсказуемым, подсознательным, но, на самом деле, основанного на воспринятом опыте произведений и мастеров «запавших в душу», оставивших запечатленный след в сознании. Возможно, что эта книжка подтолкнет студентов к более внимательному изучению работ Л.В. Кулешова, Д. Вертова, С. И. Юткевича, Л. Б. Фелонова, А. А. Тарковского, а также Рене Клера, Белы Балаша, а возможно, и теоретиков, отрицавших или недооценивающих монтаж (3. Кракауэр, А. Базен.)
Более дерзкие ожидания привели нас к мысли о том, что и действующие сейчас признанные мастера пересмотрят свое отношение к монтажу и обратят внимание на увлекательность и плодотворность «постанализов», то есть теоретического осмысления собственного творческого опыта.
Правда, о монтаже ныне действующим кинорежиссерам много нового пока не написать. Но творческий пример Эйзенштейна всегда был заразителен.
Может быть, будет, наконец, подхвачена и эта эстафета великого мастера?